Как известно, где-то на рубеже XVI и XVII веков появились значки, уточняющие высоту звука - так называемые пометы [1]. Во всяком случае, нам доводилось встречать их в рукописях рубежа данных веков, поставленных явно одновременно с написанием общего текста рукописи [2]. В это же время происходил и другой процесс, тесно связанный с уточнением звука по вертикали: впервые устанавливалась путем разбиения на отдельные звуки структура сложных певческих знаков - крюков [3]. До того в певческих руководствах - азбуках, появившихся лишь в XV в., но ставших более-менее подробными только в следующем веке, эта структура изъяснялась весьма туманно и, во всяком случае, неаналитически, в терминах вроде "выверти гласом да стой" [4]. Анализ глаголов, содержащихся в подобных определениях [5], показывает, что напев того или иного сложного знака, как правило, не мыслился роспевщиками XVI века как нечто дискретное, состоящее из прерывных, отдельных звуков, но понимался как единая линия; для примера можно привести хотя бы то же "выверти". С началом же семнадцатого века это "выверти" начинает разбиваться на отдельные звуки. Мало того, значительно возрастает количество правок знаков, причем в рукописях с традиционнейшим уставным роспевом - знаменным. Несомненно, это делалось певцами с голоса в соответствии с менявшимся реальным исполнением. В более ранних рукописях такие правки найти практически невозможно [6]; нечто подобное появляется лишь к концу шестнадцатого века [7], то есть опять же близко к описываемому нами периоду. Но наиболее сильно правка расцветает в первой половине XVII века. Существуют две рукописи того времени с чрезвычайным обилием правки. Примечательно, что, если в одной из рукописей оборот - обозначим его, например, а - переправляется на более мелодически развернутый вариант а1, то во второй, наоборот, изначально написан вариант а1 [8]. Бывают и более запутанные варианты правок. Этот разнобой наиболее наглядно доказывает, что правка производилась в соответствии с реальным исполнением, а не с каким-то унифицированным протографом. А данная правка (подобных встречается немало в рукописях первой половины XVII века [9]) показывает чрезвычайную внимательность к отображению всех деталей пения в записи.
Может возникнуть вопрос: разве ранее, до XVII века, не было столь же тесного соотношения между записью и пением, совершаемым по этой записи? Разве невозможно было сразу точно зафиксировать мелодию - и петь по рукописи без всяких правок? Разумеется; но сама застойность редакций таких записей (в противовес бурному развитию певческой культуры, бывшему в XVI веке) наводит на иную мысль. Записи мелодий песнопений знаменного роспева в период с конца XV по начало XVII вв. можно рассматривать как пример уникального сохранения традиции. Сравним, например, две крюковые записи первой строки ирмоса первого гласа "Твоя победительная десница" в редакции конца XV и даже не самого начала, а первой половины XVII века [10]:
Конец XV в.:
![]()
XVII в.:
![]()
Рис. 1
Вряд ли можно сомневаться в том, что такая сохранность напева в бурный XVI век, когда, как известно, появлялись новые и новые роспевы [11], весьма подозрительна. Поэтому мы вправе предположить, что при записи совершающие ее руководствовались принципом традиционализма и многое (если не все) переписывали с соответствующего образца. Но такое положение нуждается в доказательствах. Кроме того, разве запись, в свою очередь, не может оказать обратного влияния на пение? Разве певец-клирошанин, видя запись, пусть и не согласующуюся с тем, что он привык петь, но зная, что эта запись - достоверна и канонична, не мог исправить свое пение в соответствии с ней?
Мог. И, скорее всего, в некоторых случаях так и происходило. Но в знаменном пении есть множество явлений, которые говорят о другом - стойкости начертаний и мобильности напевов, в результате чего между первыми и последними образуется серьезное несоответствие. Это полностью подтверждает наше предположение.
Всем, изучавшим знаменное пение, известно такое явление, как лица и фиты. Согласно М. В. Бражникову, "обычные знамена, оказавшись в составе тайнозамкненного лицевого или фитного изображения, приобретают чисто внешний графический смысл, в большинстве случаев теряя присвоенное им в певческой практике музыкальное значение" [12]. По логике, такие знаковые комплексы (или "изображения" по М. В. Бражникову) должны содержать и некоторые знаки, указывающие на то, что здесь с обычными знаменами произошла метаморфоза, что в составе данных комплексов они читаются необычно. Такие знаки есть во всех фитах (в первую очередь, это буква "фита", из-за которой им и дано такое название) и в некоторых лицах. Но, как отмечает М. В. Бражников, "некоторые начертания не содержат специальных признаков тайнозамкненности, но являются, тем не менее, тайнозамкненными"[13]. Другими словами, певец должен был помнить, что знаки А, В и С, имеющие, соответственно, в обычном прочтении музыкальные значения a, b, c, если они стоят вместе и в определенном порядке, имеют иные музыкальные значения - скажем, d, e, h. Какое неудобство! Какая нагрузка на память певца!
Если привлечь аналогии из той области, где проблема несоответствия записанного и произносимого выражается в наиболее простых формах и к тому же достаточно давно и хорошо исследована, то есть к проблеме орфографии, то мы увидим, что подобные явления объясняются довольно просто. Так, в английском языке существовала традиция написания ряда слов строго определенным образом. В XIV веке это написание вполне соответствовало произношению; но в следующем веке произношение начало меняться. Написание же оставалось (и остается до настоящего времени) прежним. Приблизительно к XVII веку в английском языке утвердилось современное произношение ряда слов, весьма далеко ушедшее от их традиционного написания [14] - и в итоге несоответствие английского произношения и орфографии является ужасом для изучающих этот язык иностранцев.
По-видимому, и в знаменном пении происходило нечто аналогичное. Крюковой ряд в песнопениях оставался прежним - а новая мелодия просто как бы накладывалась в сознании певцов на этот ряд - и в конце концов такое несоответствие в пении становилось традицией и попадало в музыкальные учебники - "азбуки". Сведения, приводимые М. В. Бражниковым, показывают, что в относительно ранних азбуках указывается ничтожное количество лиц - но к XVII веку оно значительно возрастает [15]. По нашему мнению, все изложенные факты - и нелогичность начертаний ряда лиц, не имеющих никакого специального признака, позволившего бы идентифицировать их как лица, и возрастание их количества в азбуках - можно объяснить только образованием новых и новых лиц, вернее, как бы "получением статуса лица" новыми фрагментами песнопений, читавшимися и певшимися ранее совершенно обычно. В ряде случаев можно даже предположительно проследить, как проходил такой процесс. Рассмотрим, как в одном из лиц восьмого гласа знаменного роспева традиционная мелодия соотносится с "обычным", "не-лицевым" прочтением тех же знамен (лицо и его прочтение даны по В. М. Металлову [16]):
Лицо:

Традиционное прочтение:
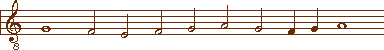
"He-лицевое" прочтение:
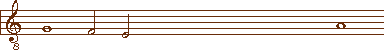
Рис. 2
Как мы видим, оба прочтения отличаются только большим "вставным" фрагментом мелодии. Поскольку данное лицо стоит всегда в конце мелодического построения и может рассматриваться как каденция, то мы вправе сделать вывод: в исполнительской традиции в данных местах, где размещалось это лицо, сформировалась фиоритурная вставка в каденцию - хрестоматийное явление, в высшей степени свойственное многим монодическим культурам, в том числе и западной (как в случае чистой монодии, так и монодии с сопровождением). Вставка запомнилась певцам, вошла в традицию пения - но традиция записи, по-видимому, предусматривала переписывание этих мест без каких бы то ни было правок. В итоге - случилось то же, что и в английском языке: с традиционной записью (читавшейся ранее без какой бы то ни было тайнозамкненности) было совмещено возникшее в ходе эволюции напева исполнение. Подобных примеров в отношении лиц можно найти немало; мы не приводим их, дабы не загромождать труд; интересующиеся могут сами проанализировать, например, лица №№ 9, 15 и 37 из цитированной нами азбуки В. М. Металлова. Таким образом, наличие сильной эволюции уставного знаменного роспева при практически неподвижной редакции его записи можно считать доказанным - равно как и отсутствие в ряде случаев устойчивой, однозначной связи между знаковым рядом и уставным знаменным роспевом. С этого времени книги в своем большинстве становятся по-настоящему читаемыми - что видно по состоянию значительной части рукописей того времени, как по бесконечным правкам (о чем мы выше говорили), так и по их замусоленности, изобилию пятен от свечей.
В XVII веке исчезла почва для возникновения тайнозамкненных образований. Все можно было изложить четко и аналитично. Разумеется, существовала традиция записи, предусматривающая сохранение в музыкальном тексте уже существующих тайнозамкненных знаковых комплексов. Но даже эта традиция нередко обходилась. В конце XVI века появились так называемые "розводы" - изложение с помощью простых знамен напева тайнозамкненных комплексов, позволившее как бы "сфотографировать", жестко зафиксировать последний этап развития мелодики тайнозамкненных напевов, подобно тому как пометы зафиксировали звуковысотность. Но для того времени подобные явления были редки, в то время как в XVII веке розводы стали обязательными [17], что, конечно, согласуется с общим духом аналитичности, проявившемся в первую очередь в пометах. Но этим дело не ограничилось. Розводы мало-помалу вышли из певческих руководств и вошли в сам текст песнопений, доселе столь строго сохранявшийся. Многие розводы писались на полях певческих рукописей [18], а некоторые из них вошли и в сам певческий текст; фитной или лицевой знаковый комплекс был вытесняем на поля, а иногда и совсем пропадал [19]. Таким образом, сам знаковый текст напева песнопения, в прошлом переписываемый "один к одному" или с незначительными поправками, все же изменился - при сохранности напева в целом и при сохранности многих других "тайнозамкненных" мест. Это свидетельствует об ином отношении к соотношению музыкального текста и напева. Если ранее были две довольно самостоятельные традиции - собственно певческая традиция и традиция записи напева - и соприкасались они, как мы видим, весьма своеобразно, то в XVII веке первая начала подчинять себе последнюю. И знаменательно, что именно в этом веке крюки, наконец, уступили место нотной грамоте [20], которая не имела за собой никакой традиции записи и была для того времени предельно аналитична - и при использовании которой поэтому не было почвы для возникновения новых подобных явлений.
До сих пор речь шла об явлениях, непосредственно отражавшихся в певческих рукописях, явлениях, существование которых можно установить непосредственно. Но необходимо говорить и о других феноменах, которые, по нашему мнению, несомненно были - но существование которых невозможно впрямую доказать анализом певческих рукописей или каких-либо иных (например, нарративных) источников. Тем не менее говорить о них надо - в противном случае значительная часть реальной музыкальной жизни XVII века окажется вне исследования. Это - проблема реального исполнения одноголосных (в принципе) церковных напевов.
Нам уже приходилось показывать, что в допометный период мелодии знаменного роспева реально пелись, по крайней мере, с двухголосными эпизодами [21]. По-видимому, это не слишком сильно противоречило одноголосному крюковому изложению - ибо само изложение напева посредством допометных крюков было весьма примитивным. Ни лад, ни высота звуков точно не определялись. Лишь часть крюков была сориентирована (весьма туманно) относительно некоторой полумифической "строки" [22]. При такой некорректности запись не могла оказать какое-либо "дисциплинирующее" воздействие на певца; она, несомненно, напоминала ему заученную мелодию - но твердо "вести" его, показать точную линию мелодии она была неспособна. Поэтому и певец, поющий один вариант напева, и тот, кто пел другой вариант, расходящийся с первым кое-где по-подголосочному в терцию - оба они, имея перед глазами одну и ту же крюковую запись, могли быть уверены, что поют в точности по крюку. С введением помет такая возможность исчезла. Если над каким-либо знаком, обозначающим один звук, стояла, скажем, помета "м" (условно расшифровывается как "фа"; на самом деле - седьмая ступень 12-ступенного звукоряда квартового строения), то волей-неволей все грамотные певцы своим голосом подтягивались к ней. Это не "строка", которая была способна только указать "выше-ниже", да и то в отношении далеко не всех даже однонотных знамен. Такая запись оказывала обратное влияние, дисциплинируя певцов, приучая их к унисону. И, по-видимому, в XVII веке, по крайней мере, в ряде профессиональных хоров, унисон стал соблюдаться строже, чем это было, допустим, в XVI веке. Это трудно доказать - но так должно было быть; более точная, детерминирующая запись всегда несколько подтягивает исполнителей.
Но такое положение вещей не могло не иметь и обратную сторону. Начнем сначала. Пристрастие византийских церковных певцов - первоначальных учителей русских - к унисону объясняется совсем другим, нежели популярный в нашей музыковедческой литературе мотив о "самоуглубленности" и прочем. Просто у народов, у которых долгое время профессиональная музыкальная культура была унисонной (как, например, у армян), унисонным был (и остается) и фольклор [23]. А у западных народов, напротив, и фольклор был многоголосным, и профессиональное пение, как известно, достаточно рано стало таким же. Таким образом, мы можем сделать вывод, что профессиональная культура многих народов только реализует пристрастия, проявляющиеся в фольклоре и зависящие, очевидно, от каких-то глубинных культурологических закономерностей данного народа - или, говоря проще, от крови и почвы. Поэтому и изощреннейшее византийское церковное пение, записываемое при помощи не менее изощренной, сверхточной нотации (что свидетельствует о высочайшей культуре), было унисонным. Но русский фольклор заведомо многоголосен - и то, что русское церковное пение формально было унисонным столь долгие годы, может быть объяснимо только сильнейшей духовной гегемонией Византии. Но, несомненно, русские певцы, в которых культурологически (а, может быть, даже и генетически) было заложено стремление к многоголосию, чувствовали некоторое насилие над своим музыкальным чутьем. И если до XVII века господство унисона до известной степени сглаживалось нестрогим его исполнением, то в XVII веке ситуация не могла не обостриться. И, по-видимому, быстрая победа многоголосия в это время произошла в какой-то степени и потому, что музыкальное чувство русских певцов как никогда сильно протестовало против засилья монодической культуры.
Вместе с тем появление настоящего унисона в певческой практике повлекло за собой далеко идущие последствия. Мы имеем в виду старообрядческую певческую культуру, которая повторяла традиции именно XVII века, а не более раннего времени. Старообрядцы взяли лишь строго одноголосное пение вместе с крюковой пометной письменностью. Разумеется, в старообрядческой среде нередко пели (и поют до сих пор) с подголосками - но таковые появлялись либо вопреки крюковой грамотности, либо там, где такой грамотности совсем не было. Кроме того, многие влиятельные старообрядческие деятели (вроде знаменитого мученика диакона Александра [24] или родоначальника рода Рябушинских) пришли в старообрядчество со стороны. В области музыкальной культуры не могло не быть таких же "пришельцев", которые начинали учить крюковую грамоту "с нуля", внося в нее свои, далеко не крюковые, навыки, и в итоге такая крюковая грамотность все более формализовывалась. И в ней, естественно, все меньше оставалось места для традиции пения - и все больше становилось формального, одноголосного пения "по помете". Поэтому старообрядческое пение нашего времени может служить только очень отдаленным подобием реального пения, например, XVI века.
Сама певческая реформа XVII века заслуживает большего внимания и рассмотрения, чем она имела до сих пор. Самые ранние пометные записи, по нашим наблюдениям, ограничиваются срединным гексахордом, а вовсе не всем привычным пометным звукорядом [25]. По-видимому, сначала именно он и был (может быть, с добавлением пометы "ц", как вводного тона к нижнему устою). И только впоследствии, как производные, появились пометы "простого согласия" путем добавления к пометам "мрачного" дополнительного крестика - "крыжа", и, соответственно, пометы "тресветлого" путем добавления к пометам "светлого" надстрочной точки - "хохла". Только с данного момента стало ясно квартовое строение звукоряда. Впрочем, и без того видно, что аналитичность новой системы была крайне слабой. Авторы пометной системы, кто бы это ни был, даже не попытались соразмерить между собой интервалы между соседними звуками, не говоря уже о выявлении тонов и полутонов. Даже впоследствии, уже в конце века, Тихон Макарьевский, знаток и крюков и нот, так объяснял вводный тон: "пой жалостно и глас испущай тихо"[26]. По сути, вопрос о том, что есть вводный тон, подменялся вопросом его вкусового восприятия. Только один русский музыкальный деятель того времени, европейски образованный партесник Н. Дилецкий, совершенно не приемлющий крюковой системы, сказал, что диез - это полтона (по его терминологии - "полноты" [27]). Таким образом, аналитичность новой системы была половинчатая - даже по сравнению с западными музыкальными системами, например, X века. И то же самое можно сказать о круге фиксируемых ею явлений. Да, репертуар записываемых мелодий несколько расширился. Но он остался по-прежнему сугубо церковным (плюс "покаянные стихи", о которых речь шла выше). Стали записываться ранее исполняемые сугубо по памяти вещи (вплоть до диаконского возгласа на панихиде [28]) - но все они были почти исключительно служебными. Какой контраст с Европой даже X века!
И все же эта новая система имела важнейшее значение. Она, будучи промежуточной, как бы подготовила русских музыкантов-профессионалов к нотам, к новому шагу вперед. А уже собственно привнесение западной нотной культуры (точнее говоря - польской, в украинско-белорусской редакции) расширило и горизонт певцов-профессионалов. Но это не снимает более чем половинчатого характера данной реформы. Такими же - по типу - были и ее последствия. Но все же последний этап эволюции знаменного пения был "сфотографирован", круг фиксируемого несколько расширился - а обратное воздействие - записи на исполнение - по-видимому, спровоцировало более сильное влечение к многоголосию, вскоре реализовавшееся. Кроме того, в очередной раз была стерта грань между традицией записи и традицией исполнения - и запись снова стала отражать реальное исполнение, причем аналитичность записи стала самой высокой за весь период русского церковного пения от XI до XVII века - почему, собственно, и оказалось возможным, с одной стороны, "фотографирование", а, с другой стороны, была подготовлена почва для восприятия нотной культуры. Это и можно назвать главными плодами реформы начала XVII века.
ССЫЛКИ К ОЧЕРКУ:
[1] Бражников М. В. Древнерусская теория музыки. Л., 1972, с. 94.
[2] Игошев Л. А. Рукописи государевых певчих дьяков как источник для изучения древнерусской музыки. - В сб.: Из истории культуры и общественной мысли народов СССР. М ., 1987, с. 33.
[3] Там же, с. 31-32.
[4] См., например, Успенский Н. Д. Древнерусское певческое искусство. М., 1971, с. 294-301; см. также [1], с. 132.
[5] См., например, описание в цит. труде Н. Д. Успенского, с. 292.
[6] См., например, певческие рукописи РГБ, ф.304 [1] (собрание Троице-Сергиевой лавры), №№ 410, 411 (обе - начала XVI вв.).
[7] См., например, рукопись того же фонда, № 427 (время Феодора Иоанновича - 1584-1596 гг.), лл.
{8] Ср., например, РГБ, ф.218 № 1196 (первая половина XVII века), л. 4, ирмос "Един сведый", слово "оболкося", и РГБ, Ник. 282 (время то же), л. 3, ирмос и слово те же.
[9] См., например, РГБ, ф.379 № 23 (1634-1641), л. 10; РГБ, ф.304 (I), № 429 (первая половина XVII в.), л. 141 об.
[11] Материал для строки конца XV в. взят из труда: Металлов В. М. Русская симиография. М., 1912, табл. LXXX; строка же первой половины XVII в. приведена по: Koschmieder E. Die altesten Novgoroder Hirmologien - Fragmente. Bd.l. Munchen, 1952, S. 3.
[12] См. [1], с. 107.
[13] Бражников М. В. Лица и фиты знаменного распева. Л., 1984, с.17.
[14] Там же, с. 26.
[15] Аракин В. Д. История английского языка. М., 1985, с.195.
[16] См. [1], с. 132-133.
[17] Металлов В. М. Азбука крюкового пения. М., 1895, с. 79.
[18] См. [1], с. 136.
[19] См. [12], с. 23, 31-32.
[21] Там же, с. 23-24.
[22] Успенский Н. Д. Цит. труд, с. 331.
[23] См. [2], с. 33-36.
[24] См. [1], с. 102-103.
[25] См., например, Чеботарян Г. М. X. С. Кушнарев. Л., 1990, с.50.
[26] Ответы Александра диакона. М., [1995], репринт с изд. 1906г., с. 24-26.
[27] См., например, ЦГАДА, ф.188, № 1573а (рубеж XVI-XVII вв.).
[28] См. [20], с.
[29] Н. Дилецкий. Мусикийская грамматика. Изд. в ред. С. В. Смоленского, СПб., 1910, с. 68.
[30] РГБ, ф. 379 № 18 (конец XVII в.), л. 110.